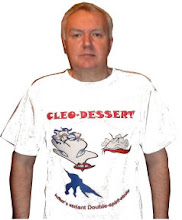Надежда Петрунина
Зимняя черемуха
ПОВЕСТЬ
Саша мучительно вспоминала сон. Она удержала в памяти только середину его: полутемный подвал заставлен ящиками, сбоку—длинный коридор, похожий на тоннель, потому что там, в конце его, светло. Саша еще может выбрать и очень радуется, что выберет коридор. Радуясь, она шагает к ящикам и, наверное, идет сквозь них, ведь ящики остаются нераздвинутыми, а она оказывается в самой середине. Пошевелиться нельзя, но Саша вздыхает, и ящики начинают падать на нее, придавливая тяжестью и ужасом.
Это не весь сон. Что-то очень важное было в начале или в конце, но Саша не могла вспомнить, и недосказанное мучило.
Она встала из-за стола, на котором были разложены тетради четвероклассников, включила настольную лампу и, раздвинув плотные шторы, остановилась у окна. “Почему мне снится такое, почему? Почему так давило? Что это за тяжесть? Сила давления жизни, как часто говорит Игорь? Но почему ящики?”
— Ну да... да,—сказала Саша вслух и положила ладонь на темное от вечера стекло. Дикий холод стекла понравился ей: он был таким пронзительным и свежим после искусственной духоты настольной лампы.
В темноте стало легче дышать.
Под Сашиным окном стояли частные домики, на их крышах ровно лежал снег, он облегчал темноту вечера. Фруктовый сад по-зимнему обнищал, голые ветви торчали неприютно. Желтые огоньки маленьких домиков и фонарей “дышали” в темноте.
Саша знала, что за окном мороз жжет, но почему-то от всей этой жизни с ее огнями, тугим снегом, маленькими домами пахло теплом... “Есть другая жизнь... Как из печки дымком...”
— Саша, ну скорей, ты посмотри!—возбужденно позвали ее из соседней комнаты, где родители и муж смотрели телевизор.
Идти, чтобы увидеть какую-нибудь обезьяну или чудной наряд “звезды”, не хотелось, но будут кричать, а потом еще долго и сбивчиво рассказывать об увиденном.
Саша вошла в комнату, села на стул.
— Карнавал в Альпах показывали,—сказала мама,— Ты не представляешь: они ехали гуськом с горы, надо, чтоб все выверено, ведь на одних лыжах! Так оригинально! Мы тебя звали. Один отклонился—так они все попадали, куча мала. Давно такого не показывали! Все какая-нибудь тягомотина, а это—так оригинально.
Мария Григорьевна, рассказывая, часто встряхивала головой, быстро кивала в согласьи со словами. Когда-то она носила косу, как и многие женщины того времени, потом косу отрезала, сделала стрижку, и с тех пор короткие пряди, чуть только опадала с них завивка, как-то беспомощно топорщились.
У нее было простое русское лицо: серые круглые глаза, вздернутый нос; даже так—простое стареющее лицо: веки сильно отяжелели, а под глазами наросли как бы вторые, нижние веки—морщинистые, лишние. Сейчас, в голубом полумраке, морщины ушли с лица, вдруг странно помолодевшего, да и говорила она весело, смеялась молодо, от души.
— Марья Григорьна, в общем, это надо было видеть,—сказал Игорь теще и тут же—Саше, с недовольством:—Мы тебя звали.
“А какое ты имеешь право перебивать ее?”—подумала Саша, а вслух сказала:
— Тетради за меня кто проверять будет?
— Никто не будет,—буркнул Андрей Ларионович: он всегда быстро раздражался на Сашину резкость.—Никто не будет, да и кто тебе должен? Это твоя работа! Не такое время, чтоб нога на ногу и семечки лузгать—все работают.
— Обработались!—огрызнулась Саша.—Вон Лилька рассказывала, что в это НИИ, ну, в “химдым”, некоторые со своими подушками ходят.
— Ой, Саша, я что-то не верю,—сказала Мария Григорьевна,— больше наговорят, работать везде надо.
— Не-ет, она думает, ее где-нибудь посадят, она будет сидеть—чаи гонять!—возбужденно говорил Андрей Ларионович,— а ей за это платить будут, да рублей по двести! Так не бывает.
— Бывает.
— Нет, милочка, не бывает!
— Бывает! Бывает и так, что ты, участник воины, вкалываешь всю жизнь: никаких машин, дач не имеешь. В санатории путевки давали два раза за всю жизнь. А вот он,—Саша резко и выразительно ткнула пальцем в пол (под ними жил завбазой),—машины уже три раза менял и дачу имеет двухэтажную на тридцать седьмом километре...
— Ну иди, воруй!—закричал Андрей Ларионович.— Иди, воруй. Ты прекрасно знаешь, что на зарплату дач и машин не накупишь! Значит, надо воровать. А тебе отец никудышный достался: не воровал.
— Чего ты.. Я тебе только хотела сказать, что у всех по-разному. Кто пашет, а кто и... Я вон разговор с Тамбовом заказывала. В шестнадцать ноль-ноль, говорят. Звоню пятнадцать минут пятого: где же Тамбов? А она мне эдак снисходительно: так не бывает, девушка, чтобы минута в минуту. Я на урок, говорю, минута в минуту прихожу, по звонку... Она и слушать не стала: “Дело ваше” — и дала отбой. В общем, папа, одни учителя только и пашут.
— Напахали,— с особым значением протянул Андрей Ларионович.
— Напахали!—заносчиво утвердила Саша.
— Так напахали—черт те что натворили.
— Черт те что натворили не учителя, к твоему сведению. Учителя, к твоему сведению, пахали. И пашут!
— Андрей, да уж правда,—тихо сказала Мария Григорьсвна.—Они там все замученные бегают. Саша, вот эта, забыла, как зовут... Такая несчастная, ну мимо нас все с авоськой бегает... Туфли рваные. Двое детей еще у нее и муж, видно, выпивает. Бежи-ит, селедки купит— рада-радешенька... Замордованная такая... Ты говорила вроде математику она преподает...
— А.— кивнула Саша,— Никитична. Побежишь, если двое детей. Она, как и я, в две смены вкалывает
— Вкалываете вы,—с сердцем сказал отец,—навкалывали! Так и дети-то все во дворе вон бесхозные бегают. А все оттого, что вы навкалывали много.
— А по-твоему, классный руководитель за ними вприпрыжку должен бегать, да?
— Да, по-моему, да. Макаренко со своими ребятами дневал и ночевал.
— Ах, Мака-аренко... Ну знаешь, в обычной школе надо на таких вот, как Никитична, рассчитывать. На них, грешных! Или, в лучшем случае, на старых дев. Макаренко ему подайте! Школы набейте Макаренками: по пятьдесят в каждую: размах! Ты вот слышал звон, а не знаешь, что Макаренко Антон Семенович до сорока лет не женился и что из коммуны уехал с нервным истощением. Знаешь, жертвовать личным счастьем, здоровьем не каждый будет. У нас ведь как все думают: за свои сто тридцать учитель исхлестаться весь должен, обязан просто!
— Да на самом деле, Андрей Ларионович,—снисходительным тоном заметил Игорь,— раньше все были равны. А теперь другие времена. Теперь эта бедная училка видит; соседка за прилавком стоит—у нее и хрусталь, и золото, и колбаса копченая... А Никитична, горемычная, выбежит из школы вечером после пяти уроков, да после педсовета, да после разноса завуча или директора—и бежи-ит в магазин. Что там купишь в это время—“Завтрак туриста”? И на том спасибо. И все-то с нее требуют, все над ней начальники: и родители учеников, и завуч, и директор, и роно, и любая комиссия!
— Ты вот знаешь, сколько платят за классное руководство, знаешь?—строго спросила отца Саша.—Десятку. Да это я так: не в деньгах дело. А в классе—сорок, в лучшем случае—тридцать пять человек. Пока сведения о родителях заполнишь—пять часов пройдет. Да сведения опять-таки—мелочь... Вот у меня четвертый, и я за каждого,—Саша сжала кулак и начала выразительно разгибать пальцы,—в ответе. А думаешь, я хорошо знаю каждого? Черта с два! В учительской буду утверждать, что всех до единого от головы до пяток изучила, а тебе скажу: не знаю многих, не знаю! А какой у них возраст? Десять-одиннадцать лет. Формирование характера... А я упускаю их! И дома упускают—родителей нет, на работе. Нет, не знаем мы их.
— Чем же ты хвастаешься?! — накаленно спросил Андрей Ларионович, и на его мягком лице жестко напряглись мышцы.—Чем хвастаешься? Тем, что лицемерка?!
— Вот видишь как: правда всем неприятна. Надо говорить: я всю душу! я выкладываюсь! я ближе матери родной! Мы и говорим так: раз вам хочется—мы и говорим. Возьми любую учительскую в любой школе За-вожска—то же и услышишь: я, мол, всю душу, ночей не сплю... Послушай их, а поверь все-таки мне. Больше тебе этого никто не скажет. При всем желании некогда эту душу-то вложить! Их—сорок. А у нас у каждого— предмет, значит—подготовка: конспекты, тетради да классный час, а его тоже прорепетируй. Плюс дополнительные уроки, два-три совещания в неделю. Бесхозные они, наши дети? Да, бесхозные. Продленка? Вас бы самих в эту продленку: в маленькой комнатушке тридцать человек, да из разных классов. Для продленок-то условия нужны.
– Ну а что же вы молчите? - весь подавшись вперед, хриплым от волнения голосом спросил Андрей Ларионович.—Что ж вы бегаете за своими консервами? В рваных туфлях? Задыхаетесь и... молчите?!
— А мы лучше помолчим,—сказала Саша, нервически дернув головой.—Целей будем! Сейчас у нас по три комиссии в год, да? А если уж больно разговорчивым стать, так и пятью комиссиями не отделаешься: Ах, вы плохо работаете? Сами сознаете?! Значит, вас надо больше контролировать, чтоб вы получше работали! Нет, мы уж помолчим и сведения подадим в роно не хуже, а еще лучше других школ. Кстати, они потом еще лучше нас подадут. Так и будем наращивать темпы в процентах, лишь бы всегда впереди других оказаться!
— Приписки в школе—это самое страшное, Саша,— тихо, отрешенно прошептал отец.
— Андрей, ну ты как святой, честное слово!—укоризненно сказала Мария Григорьевна.—Весь мир по себе не переделаешь...
— Это самое страшное,— жестко повторил Андрей Ларионович.
— Не так страшен черт, как его малюют,—иронически заметил Игорь.—Все идет нормально, ничего пока не развалилось...
— Пока...
— Андрей Ларионович, мы не дети. Вот Саня все рвется куда-то, а чего рваться-то? Все всему научатся, все будут там, где захотят.
Игорь жестикулировал худыми, длинными руками. Его желтое, вытянутое лицо оставалось неподвижным. Светлые выпуклые глаза смотрели усмешливо.
— Другое дело — каждый сам должен сориентироваться в этой жизни. Кто должен работать в школе? Такие, как дорогая Галина Петровна, наша с Саней учительница. Старая дева, отличник народного образования... Ну уж и поиздевалась... Бывало, входит—у всех коленки дрожат...
— Ну что ты болтаешь?—возмутилась Саша: она чувствовала, что кривлянье мужа, его тон не нравятся родителям.— Почему о Галине Петровне с таким сарказмом? Предметником она была удивительным, дай Бог всем такими быть. А как воспитатель, что ж... Теперь-то я понимаю: она считала себя ущемленной, от этого все шло. Ценили ее только те, кто любил литературу, остальные боялись и недолюбливали. А ты, Игорь, так просто ненавидел.
— А я что, утверждаю обратное?
— Утверждаешь! Откуда же это ехидство? “Такие” должны в школе работать. Какие такие?
— Такие—железные! Неужели же такие, как ты? Скоро уже лечиться придется от нервного истощения. Сколько раз рыдала? Ах, родители учеников—дикое племя, жилы из меня выматывают, лишь бы оценки добиться! Ах, опять плохо убрали класс—разнос будет. Ах, то, ах, се... Хоть бы раз задумалась: во имя чего все это? В о и м я чего? — Игорь постар ался отчеканить этот вопрос так, чтобы всем стала очевидна абсурдность Сашиных рвении.— Благодарная профессия, говорят? Ты сама знаешь, что так только говорят. Ну, принесут они вам первого сентября да на День учителя по букету астр. А хоть одну квартиру вам дали? Ни одной! Ты сама в бытовом секторе, сама обиваешь пороги, а над тобой смеются. Я вру? Нет. Пошли дальше... Летом все трудящиеся едут отдыхать. С заводов в пансионаты едут, в санаторий... А вам какие путевки давали? Я скажу:. за три года, что ты работаешь, на школу дали одну-разъединственную путевку на какую-то турбазу! Так, пошли дальше... Возьмем наш завод. Я—обычный, рядовой инженеришка, но все же... Система заказов у нас существует? Обязательно. К празднику уж худо-бедно, а колбасы копченой, лосося, а то и икры подкинут, а вам — шиш! Ну так с какой же стороны твоя профессия благодарная?
— С человеческой стороны,— задумчиво, без прежнего запала, сказал Андрей Ларионович.
— С человеческой?—переспросил Игорь.—Это вы про то, что люди шапки снимут, увидев учителя? Так не снимут! Продавца мясного отдела увидят—снимут, работника турбюро, что путевками распоряжается, увидят—снимут, на худой конец, участкового врача, что больничные раздает, увидят—снимут шапки. Учитель пройдет—не снимут, нет. Непрестижной она стала, эта профессия, нет. Сейчас модно так выражаться, да.
— Да,—вдруг сказала Саша с достоинством, и на ее простом, похожем на материнское, лице появилось надменное выражение.— Нам не дают квартир, не дают путевок, не платят сверхурочных. А мы все-таки делаем свое дело. И тогда, когда другие хапают, мы—именно мы!—показываем пример духовности.
— Ну знаешь, Саня,—сказал Игорь без прежней иронии, даже с какой-то безнадежной грустью,— памятника вам за это даже во дворе вашей школы никто не поставит.
Андрей Ларионович отрешенно молчал, думая о чем-то своем. Казалось, взгляд его небольших карих глаз был обращен внутрь. После долгой паузы он вдруг встрепенулся, тяжело посмотрел на зятя.
— Когда мой учитель Иван Васильевич Лазарев шел по нашей Паревке—все одергивали рубахи на себе,— сказал Андрей Ларионович сдавленным голосом.—Нас тогда, в сорок первом... Нам по семнадцать было... Направили сначала в артиллерийское училище... Я понимаю тебя, Игорь: ты вот так с раздражением говоришь не от злорадства. Что нам злорадствовать самим над собой? Ты—от боли... В училище нас выстроили, стали знакомить с порядками. Сказали: по территории училища можно ходить только строевым шагом или—бегом. Мы, понятно, все бегом, не строевым же мерить... Бегом... Мне кажется, что с тех пор вся моя жизнь бегом... Мы на фронте как думали? Только бы победить, а там...
Мария Григорьевна сказала:
— После войны уже, в пятьдесят втором... Да, Андрюша? Мы приехали в Паревку. Ты тогда уже на Севере служил... Помню, идем по дороге. А Иван Васильевич на скамеечке у околицы сидит: седой, старый уже. Увидел Андрюшу — и слезы у него, слезы... Я, говорит, тебя, Андрей, ученым видел, военным - нет…Андрей ему: “Каких еще выучите-то, Иван Васильевич!” Нет, говорит, я тебя хотел видеть…
Она заплакала, Андрей Ларионович вышел из комнаты.
– Мама, а Иван Васильевич и потом, через несколько лет, тоже там, у околицы сидел? - напряженно спросила Саша, готовая вспомнить что-то очень важное для себя.
Мария Григорьевна молча закивала: да-да, всегда так.
И Саша вспомнила...
Они жили тогда на Севере. Отец долго не был в от пуске. И вот, наконец, приехали на его родину.
От райцентра до Паревки километров двадцать, поэтому они стояли на остановке, ждали автобуса или попутки. Было жарко.
— Пап, ну когда, а? Скоро?
Тягучая пыль поднималась с дороги, медленно оседала в душном воздухе.
— Па-ап, ну скоро, а?
Отец вытер пот со лба, еще по-северному бледного, и сказал:
— А если идти напрямик—огородами, по полям, то всего верст пятнадцать будет.
— Папа, а верста больше километра, да?
— Самую малость. Ну, пошли?
Они оставили вещи у продавщицы сельпо с тем, чтобы она погрузила их на попутку до Паревки, а сами отправились туда пешком.
На окраине села, около маленького ржавого пруда, в полуденной дреме лежали коровы, вальяжные, ко всему равнодушные. Оттуда пахнуло теплым навозом.
Дорога шла между огородами, две ее колеи были похожи на тропинки, между ними густо росла пушистая и прохладная даже в жару мурава. По обочине рос цикорий, его нежные голубые цветы сидели на жестких колючих стеблях. От жары над огородами плавилось марево. Ослепительно белый воздух как бы подрагивал.
Около леса все переменилось. Здесь было прохладнее. Кроны деревьев весело шумели, каждый лист от дуновения ветра трепетал, бросая вокруг солнечные блики.
Тропинка вилась по опушкам, которые сладко пахли сеном. Еще не вся скошенная трава подсохла: из живых стеблей вытекал сок, пропитывая воздух густым запахом; в аромате высохшей травы был привкус горечи.
— Сейчас будут луга—взволнованно сказал отец.
Лес остался позади, и у Саши перехватило горло от восторга. Луга распахнулись во всю ширь, также вольно, как и небо. Такого неба Саша тоже никогда не видела. На чистом голубом поле его сияли облака, тонкая скользящая позолота солнца окаймляла их и чуть подсвечивала. Сами облака были перламутровыми, беспокойного, изменчивого цвета: нежно-розовые оттенки вливались в сиреневые, сиреневые сгущались и переходили в фиолетовые...
Мама посмотрела вдаль и спросила:
— Туда, Андрюша?
— Туда...
И они снова шли. Долго шли... А потом вдруг стога сена изменились в цвете: их желтизна потускнела, и все вокруг пожухло, озарилось неземным фантастическим светом. Небо загустело, фиолетовая поволока в облаках забрала силу, облака потемнели. От горизонта свинцовой глыбой наплывала туча, быстро слизывая последние розовые блики...
Саша никогда еще не видела так много земли и неба в такой суровости, она даже не испугалась, нет,—она просто обреченно подумала, что они умрут здесь...
— Маша, Саня, ну-ка скорей сюда!
Папа вырыл в стогу уютную нору. Они успели забраться в нее еще до первых капель дождя. Жесткие, сухие стебли кололи лоб, щеки, сенная труха набилась в нос и в уши. Временами Саше казалось, что она держит громаду стога на себе... А запах сена был таким густым, медвяным, что его можно было пить, как сироп, и Саша боялась захлебнуться.
… Когда дождь кончился и на земле и в небе сразу исчезла суровость, они пошли дальше. Солнечный мягкий свет начал заливать луга, стал ровно стелиться по проселочной дороге. Он был не жарким, а ласковым—и от этого воздух казался особенно чистым и свежим. Тепло уютно ложилось на влажную землю, и от нее поднимались испарения, негустые, легкие и теплые, как пух...
— Вот поднимемся на пригорок—и Паревка будет как на ладони,— сказал отец.
Они почти взбежали на этот пригорок, и Саша увидела Паревку. По ложбине к деревне вела все та же дорога, по ее сторонам лежали выкошенные луга. Ближе к домам зелеными куртинами стояли старые березы. Саша смотрела, и ей казалось, что все это ей давным-давно знакомо. Было в этой картине какое-то чудесное единство, однородность; двенадцатилетняя Саша впервые, не умом, правда, но сердцем, поняла, что это и есть гармония...
Около первой избы на необычной скамейке, похожей на букву П, сидел старый седой человек. Саша вдруг поняла, что он увидел их издалека. С этого места хорошо видна вся дорога...
— Папа, кто это?—спросила Саша.
Отец ее не слышал, весь подавшись вперед.
— Не кричи,—сказала мама.—Это Иван Васильевич Лазарев.
Они были шагах в десяти от старика, как отец вдруг остановился и, рывком стащив с головы белую кепку, низко, в пояс, поклонился ему. Никогда до этого, никогда после Саша не видела, чтобы отец с кем-то здоровался так...
Зимняя черемуха
ПОВЕСТЬ
Саша мучительно вспоминала сон. Она удержала в памяти только середину его: полутемный подвал заставлен ящиками, сбоку—длинный коридор, похожий на тоннель, потому что там, в конце его, светло. Саша еще может выбрать и очень радуется, что выберет коридор. Радуясь, она шагает к ящикам и, наверное, идет сквозь них, ведь ящики остаются нераздвинутыми, а она оказывается в самой середине. Пошевелиться нельзя, но Саша вздыхает, и ящики начинают падать на нее, придавливая тяжестью и ужасом.
Это не весь сон. Что-то очень важное было в начале или в конце, но Саша не могла вспомнить, и недосказанное мучило.
Она встала из-за стола, на котором были разложены тетради четвероклассников, включила настольную лампу и, раздвинув плотные шторы, остановилась у окна. “Почему мне снится такое, почему? Почему так давило? Что это за тяжесть? Сила давления жизни, как часто говорит Игорь? Но почему ящики?”
— Ну да... да,—сказала Саша вслух и положила ладонь на темное от вечера стекло. Дикий холод стекла понравился ей: он был таким пронзительным и свежим после искусственной духоты настольной лампы.
В темноте стало легче дышать.
Под Сашиным окном стояли частные домики, на их крышах ровно лежал снег, он облегчал темноту вечера. Фруктовый сад по-зимнему обнищал, голые ветви торчали неприютно. Желтые огоньки маленьких домиков и фонарей “дышали” в темноте.
Саша знала, что за окном мороз жжет, но почему-то от всей этой жизни с ее огнями, тугим снегом, маленькими домами пахло теплом... “Есть другая жизнь... Как из печки дымком...”
— Саша, ну скорей, ты посмотри!—возбужденно позвали ее из соседней комнаты, где родители и муж смотрели телевизор.
Идти, чтобы увидеть какую-нибудь обезьяну или чудной наряд “звезды”, не хотелось, но будут кричать, а потом еще долго и сбивчиво рассказывать об увиденном.
Саша вошла в комнату, села на стул.
— Карнавал в Альпах показывали,—сказала мама,— Ты не представляешь: они ехали гуськом с горы, надо, чтоб все выверено, ведь на одних лыжах! Так оригинально! Мы тебя звали. Один отклонился—так они все попадали, куча мала. Давно такого не показывали! Все какая-нибудь тягомотина, а это—так оригинально.
Мария Григорьевна, рассказывая, часто встряхивала головой, быстро кивала в согласьи со словами. Когда-то она носила косу, как и многие женщины того времени, потом косу отрезала, сделала стрижку, и с тех пор короткие пряди, чуть только опадала с них завивка, как-то беспомощно топорщились.
У нее было простое русское лицо: серые круглые глаза, вздернутый нос; даже так—простое стареющее лицо: веки сильно отяжелели, а под глазами наросли как бы вторые, нижние веки—морщинистые, лишние. Сейчас, в голубом полумраке, морщины ушли с лица, вдруг странно помолодевшего, да и говорила она весело, смеялась молодо, от души.
— Марья Григорьна, в общем, это надо было видеть,—сказал Игорь теще и тут же—Саше, с недовольством:—Мы тебя звали.
“А какое ты имеешь право перебивать ее?”—подумала Саша, а вслух сказала:
— Тетради за меня кто проверять будет?
— Никто не будет,—буркнул Андрей Ларионович: он всегда быстро раздражался на Сашину резкость.—Никто не будет, да и кто тебе должен? Это твоя работа! Не такое время, чтоб нога на ногу и семечки лузгать—все работают.
— Обработались!—огрызнулась Саша.—Вон Лилька рассказывала, что в это НИИ, ну, в “химдым”, некоторые со своими подушками ходят.
— Ой, Саша, я что-то не верю,—сказала Мария Григорьевна,— больше наговорят, работать везде надо.
— Не-ет, она думает, ее где-нибудь посадят, она будет сидеть—чаи гонять!—возбужденно говорил Андрей Ларионович,— а ей за это платить будут, да рублей по двести! Так не бывает.
— Бывает.
— Нет, милочка, не бывает!
— Бывает! Бывает и так, что ты, участник воины, вкалываешь всю жизнь: никаких машин, дач не имеешь. В санатории путевки давали два раза за всю жизнь. А вот он,—Саша резко и выразительно ткнула пальцем в пол (под ними жил завбазой),—машины уже три раза менял и дачу имеет двухэтажную на тридцать седьмом километре...
— Ну иди, воруй!—закричал Андрей Ларионович.— Иди, воруй. Ты прекрасно знаешь, что на зарплату дач и машин не накупишь! Значит, надо воровать. А тебе отец никудышный достался: не воровал.
— Чего ты.. Я тебе только хотела сказать, что у всех по-разному. Кто пашет, а кто и... Я вон разговор с Тамбовом заказывала. В шестнадцать ноль-ноль, говорят. Звоню пятнадцать минут пятого: где же Тамбов? А она мне эдак снисходительно: так не бывает, девушка, чтобы минута в минуту. Я на урок, говорю, минута в минуту прихожу, по звонку... Она и слушать не стала: “Дело ваше” — и дала отбой. В общем, папа, одни учителя только и пашут.
— Напахали,— с особым значением протянул Андрей Ларионович.
— Напахали!—заносчиво утвердила Саша.
— Так напахали—черт те что натворили.
— Черт те что натворили не учителя, к твоему сведению. Учителя, к твоему сведению, пахали. И пашут!
— Андрей, да уж правда,—тихо сказала Мария Григорьсвна.—Они там все замученные бегают. Саша, вот эта, забыла, как зовут... Такая несчастная, ну мимо нас все с авоськой бегает... Туфли рваные. Двое детей еще у нее и муж, видно, выпивает. Бежи-ит, селедки купит— рада-радешенька... Замордованная такая... Ты говорила вроде математику она преподает...
— А.— кивнула Саша,— Никитична. Побежишь, если двое детей. Она, как и я, в две смены вкалывает
— Вкалываете вы,—с сердцем сказал отец,—навкалывали! Так и дети-то все во дворе вон бесхозные бегают. А все оттого, что вы навкалывали много.
— А по-твоему, классный руководитель за ними вприпрыжку должен бегать, да?
— Да, по-моему, да. Макаренко со своими ребятами дневал и ночевал.
— Ах, Мака-аренко... Ну знаешь, в обычной школе надо на таких вот, как Никитична, рассчитывать. На них, грешных! Или, в лучшем случае, на старых дев. Макаренко ему подайте! Школы набейте Макаренками: по пятьдесят в каждую: размах! Ты вот слышал звон, а не знаешь, что Макаренко Антон Семенович до сорока лет не женился и что из коммуны уехал с нервным истощением. Знаешь, жертвовать личным счастьем, здоровьем не каждый будет. У нас ведь как все думают: за свои сто тридцать учитель исхлестаться весь должен, обязан просто!
— Да на самом деле, Андрей Ларионович,—снисходительным тоном заметил Игорь,— раньше все были равны. А теперь другие времена. Теперь эта бедная училка видит; соседка за прилавком стоит—у нее и хрусталь, и золото, и колбаса копченая... А Никитична, горемычная, выбежит из школы вечером после пяти уроков, да после педсовета, да после разноса завуча или директора—и бежи-ит в магазин. Что там купишь в это время—“Завтрак туриста”? И на том спасибо. И все-то с нее требуют, все над ней начальники: и родители учеников, и завуч, и директор, и роно, и любая комиссия!
— Ты вот знаешь, сколько платят за классное руководство, знаешь?—строго спросила отца Саша.—Десятку. Да это я так: не в деньгах дело. А в классе—сорок, в лучшем случае—тридцать пять человек. Пока сведения о родителях заполнишь—пять часов пройдет. Да сведения опять-таки—мелочь... Вот у меня четвертый, и я за каждого,—Саша сжала кулак и начала выразительно разгибать пальцы,—в ответе. А думаешь, я хорошо знаю каждого? Черта с два! В учительской буду утверждать, что всех до единого от головы до пяток изучила, а тебе скажу: не знаю многих, не знаю! А какой у них возраст? Десять-одиннадцать лет. Формирование характера... А я упускаю их! И дома упускают—родителей нет, на работе. Нет, не знаем мы их.
— Чем же ты хвастаешься?! — накаленно спросил Андрей Ларионович, и на его мягком лице жестко напряглись мышцы.—Чем хвастаешься? Тем, что лицемерка?!
— Вот видишь как: правда всем неприятна. Надо говорить: я всю душу! я выкладываюсь! я ближе матери родной! Мы и говорим так: раз вам хочется—мы и говорим. Возьми любую учительскую в любой школе За-вожска—то же и услышишь: я, мол, всю душу, ночей не сплю... Послушай их, а поверь все-таки мне. Больше тебе этого никто не скажет. При всем желании некогда эту душу-то вложить! Их—сорок. А у нас у каждого— предмет, значит—подготовка: конспекты, тетради да классный час, а его тоже прорепетируй. Плюс дополнительные уроки, два-три совещания в неделю. Бесхозные они, наши дети? Да, бесхозные. Продленка? Вас бы самих в эту продленку: в маленькой комнатушке тридцать человек, да из разных классов. Для продленок-то условия нужны.
– Ну а что же вы молчите? - весь подавшись вперед, хриплым от волнения голосом спросил Андрей Ларионович.—Что ж вы бегаете за своими консервами? В рваных туфлях? Задыхаетесь и... молчите?!
— А мы лучше помолчим,—сказала Саша, нервически дернув головой.—Целей будем! Сейчас у нас по три комиссии в год, да? А если уж больно разговорчивым стать, так и пятью комиссиями не отделаешься: Ах, вы плохо работаете? Сами сознаете?! Значит, вас надо больше контролировать, чтоб вы получше работали! Нет, мы уж помолчим и сведения подадим в роно не хуже, а еще лучше других школ. Кстати, они потом еще лучше нас подадут. Так и будем наращивать темпы в процентах, лишь бы всегда впереди других оказаться!
— Приписки в школе—это самое страшное, Саша,— тихо, отрешенно прошептал отец.
— Андрей, ну ты как святой, честное слово!—укоризненно сказала Мария Григорьевна.—Весь мир по себе не переделаешь...
— Это самое страшное,— жестко повторил Андрей Ларионович.
— Не так страшен черт, как его малюют,—иронически заметил Игорь.—Все идет нормально, ничего пока не развалилось...
— Пока...
— Андрей Ларионович, мы не дети. Вот Саня все рвется куда-то, а чего рваться-то? Все всему научатся, все будут там, где захотят.
Игорь жестикулировал худыми, длинными руками. Его желтое, вытянутое лицо оставалось неподвижным. Светлые выпуклые глаза смотрели усмешливо.
— Другое дело — каждый сам должен сориентироваться в этой жизни. Кто должен работать в школе? Такие, как дорогая Галина Петровна, наша с Саней учительница. Старая дева, отличник народного образования... Ну уж и поиздевалась... Бывало, входит—у всех коленки дрожат...
— Ну что ты болтаешь?—возмутилась Саша: она чувствовала, что кривлянье мужа, его тон не нравятся родителям.— Почему о Галине Петровне с таким сарказмом? Предметником она была удивительным, дай Бог всем такими быть. А как воспитатель, что ж... Теперь-то я понимаю: она считала себя ущемленной, от этого все шло. Ценили ее только те, кто любил литературу, остальные боялись и недолюбливали. А ты, Игорь, так просто ненавидел.
— А я что, утверждаю обратное?
— Утверждаешь! Откуда же это ехидство? “Такие” должны в школе работать. Какие такие?
— Такие—железные! Неужели же такие, как ты? Скоро уже лечиться придется от нервного истощения. Сколько раз рыдала? Ах, родители учеников—дикое племя, жилы из меня выматывают, лишь бы оценки добиться! Ах, опять плохо убрали класс—разнос будет. Ах, то, ах, се... Хоть бы раз задумалась: во имя чего все это? В о и м я чего? — Игорь постар ался отчеканить этот вопрос так, чтобы всем стала очевидна абсурдность Сашиных рвении.— Благодарная профессия, говорят? Ты сама знаешь, что так только говорят. Ну, принесут они вам первого сентября да на День учителя по букету астр. А хоть одну квартиру вам дали? Ни одной! Ты сама в бытовом секторе, сама обиваешь пороги, а над тобой смеются. Я вру? Нет. Пошли дальше... Летом все трудящиеся едут отдыхать. С заводов в пансионаты едут, в санаторий... А вам какие путевки давали? Я скажу:. за три года, что ты работаешь, на школу дали одну-разъединственную путевку на какую-то турбазу! Так, пошли дальше... Возьмем наш завод. Я—обычный, рядовой инженеришка, но все же... Система заказов у нас существует? Обязательно. К празднику уж худо-бедно, а колбасы копченой, лосося, а то и икры подкинут, а вам — шиш! Ну так с какой же стороны твоя профессия благодарная?
— С человеческой стороны,— задумчиво, без прежнего запала, сказал Андрей Ларионович.
— С человеческой?—переспросил Игорь.—Это вы про то, что люди шапки снимут, увидев учителя? Так не снимут! Продавца мясного отдела увидят—снимут, работника турбюро, что путевками распоряжается, увидят—снимут, на худой конец, участкового врача, что больничные раздает, увидят—снимут шапки. Учитель пройдет—не снимут, нет. Непрестижной она стала, эта профессия, нет. Сейчас модно так выражаться, да.
— Да,—вдруг сказала Саша с достоинством, и на ее простом, похожем на материнское, лице появилось надменное выражение.— Нам не дают квартир, не дают путевок, не платят сверхурочных. А мы все-таки делаем свое дело. И тогда, когда другие хапают, мы—именно мы!—показываем пример духовности.
— Ну знаешь, Саня,—сказал Игорь без прежней иронии, даже с какой-то безнадежной грустью,— памятника вам за это даже во дворе вашей школы никто не поставит.
Андрей Ларионович отрешенно молчал, думая о чем-то своем. Казалось, взгляд его небольших карих глаз был обращен внутрь. После долгой паузы он вдруг встрепенулся, тяжело посмотрел на зятя.
— Когда мой учитель Иван Васильевич Лазарев шел по нашей Паревке—все одергивали рубахи на себе,— сказал Андрей Ларионович сдавленным голосом.—Нас тогда, в сорок первом... Нам по семнадцать было... Направили сначала в артиллерийское училище... Я понимаю тебя, Игорь: ты вот так с раздражением говоришь не от злорадства. Что нам злорадствовать самим над собой? Ты—от боли... В училище нас выстроили, стали знакомить с порядками. Сказали: по территории училища можно ходить только строевым шагом или—бегом. Мы, понятно, все бегом, не строевым же мерить... Бегом... Мне кажется, что с тех пор вся моя жизнь бегом... Мы на фронте как думали? Только бы победить, а там...
Мария Григорьевна сказала:
— После войны уже, в пятьдесят втором... Да, Андрюша? Мы приехали в Паревку. Ты тогда уже на Севере служил... Помню, идем по дороге. А Иван Васильевич на скамеечке у околицы сидит: седой, старый уже. Увидел Андрюшу — и слезы у него, слезы... Я, говорит, тебя, Андрей, ученым видел, военным - нет…Андрей ему: “Каких еще выучите-то, Иван Васильевич!” Нет, говорит, я тебя хотел видеть…
Она заплакала, Андрей Ларионович вышел из комнаты.
– Мама, а Иван Васильевич и потом, через несколько лет, тоже там, у околицы сидел? - напряженно спросила Саша, готовая вспомнить что-то очень важное для себя.
Мария Григорьевна молча закивала: да-да, всегда так.
И Саша вспомнила...
Они жили тогда на Севере. Отец долго не был в от пуске. И вот, наконец, приехали на его родину.
От райцентра до Паревки километров двадцать, поэтому они стояли на остановке, ждали автобуса или попутки. Было жарко.
— Пап, ну когда, а? Скоро?
Тягучая пыль поднималась с дороги, медленно оседала в душном воздухе.
— Па-ап, ну скоро, а?
Отец вытер пот со лба, еще по-северному бледного, и сказал:
— А если идти напрямик—огородами, по полям, то всего верст пятнадцать будет.
— Папа, а верста больше километра, да?
— Самую малость. Ну, пошли?
Они оставили вещи у продавщицы сельпо с тем, чтобы она погрузила их на попутку до Паревки, а сами отправились туда пешком.
На окраине села, около маленького ржавого пруда, в полуденной дреме лежали коровы, вальяжные, ко всему равнодушные. Оттуда пахнуло теплым навозом.
Дорога шла между огородами, две ее колеи были похожи на тропинки, между ними густо росла пушистая и прохладная даже в жару мурава. По обочине рос цикорий, его нежные голубые цветы сидели на жестких колючих стеблях. От жары над огородами плавилось марево. Ослепительно белый воздух как бы подрагивал.
Около леса все переменилось. Здесь было прохладнее. Кроны деревьев весело шумели, каждый лист от дуновения ветра трепетал, бросая вокруг солнечные блики.
Тропинка вилась по опушкам, которые сладко пахли сеном. Еще не вся скошенная трава подсохла: из живых стеблей вытекал сок, пропитывая воздух густым запахом; в аромате высохшей травы был привкус горечи.
— Сейчас будут луга—взволнованно сказал отец.
Лес остался позади, и у Саши перехватило горло от восторга. Луга распахнулись во всю ширь, также вольно, как и небо. Такого неба Саша тоже никогда не видела. На чистом голубом поле его сияли облака, тонкая скользящая позолота солнца окаймляла их и чуть подсвечивала. Сами облака были перламутровыми, беспокойного, изменчивого цвета: нежно-розовые оттенки вливались в сиреневые, сиреневые сгущались и переходили в фиолетовые...
Мама посмотрела вдаль и спросила:
— Туда, Андрюша?
— Туда...
И они снова шли. Долго шли... А потом вдруг стога сена изменились в цвете: их желтизна потускнела, и все вокруг пожухло, озарилось неземным фантастическим светом. Небо загустело, фиолетовая поволока в облаках забрала силу, облака потемнели. От горизонта свинцовой глыбой наплывала туча, быстро слизывая последние розовые блики...
Саша никогда еще не видела так много земли и неба в такой суровости, она даже не испугалась, нет,—она просто обреченно подумала, что они умрут здесь...
— Маша, Саня, ну-ка скорей сюда!
Папа вырыл в стогу уютную нору. Они успели забраться в нее еще до первых капель дождя. Жесткие, сухие стебли кололи лоб, щеки, сенная труха набилась в нос и в уши. Временами Саше казалось, что она держит громаду стога на себе... А запах сена был таким густым, медвяным, что его можно было пить, как сироп, и Саша боялась захлебнуться.
… Когда дождь кончился и на земле и в небе сразу исчезла суровость, они пошли дальше. Солнечный мягкий свет начал заливать луга, стал ровно стелиться по проселочной дороге. Он был не жарким, а ласковым—и от этого воздух казался особенно чистым и свежим. Тепло уютно ложилось на влажную землю, и от нее поднимались испарения, негустые, легкие и теплые, как пух...
— Вот поднимемся на пригорок—и Паревка будет как на ладони,— сказал отец.
Они почти взбежали на этот пригорок, и Саша увидела Паревку. По ложбине к деревне вела все та же дорога, по ее сторонам лежали выкошенные луга. Ближе к домам зелеными куртинами стояли старые березы. Саша смотрела, и ей казалось, что все это ей давным-давно знакомо. Было в этой картине какое-то чудесное единство, однородность; двенадцатилетняя Саша впервые, не умом, правда, но сердцем, поняла, что это и есть гармония...
Около первой избы на необычной скамейке, похожей на букву П, сидел старый седой человек. Саша вдруг поняла, что он увидел их издалека. С этого места хорошо видна вся дорога...
— Папа, кто это?—спросила Саша.
Отец ее не слышал, весь подавшись вперед.
— Не кричи,—сказала мама.—Это Иван Васильевич Лазарев.
Они были шагах в десяти от старика, как отец вдруг остановился и, рывком стащив с головы белую кепку, низко, в пояс, поклонился ему. Никогда до этого, никогда после Саша не видела, чтобы отец с кем-то здоровался так...